Заметки о машиниме: альтернативное кинопроизводство? (часть 1)
Мария Грибова - 12.08.
На современных кинофестивалях и онлайн-платформах среди игровых и документальных фильмов можно встретить машинимы – ролики, созданные на игровом движке. Ряд теоретиков представляет их как альтернативное кинопроизводство, что объясняет распространение подобных видео через кинематографические каналы дистрибуции. Но так ли очевидна эта аналогия?
«Пилигрим» начинает серию материалов о медиальной специфике машинимы, которая завершится публикацией кураторской подборки Константина Ремизова, машиниматора и исследователя внутриигровой фотографии. В первом тексте можно прочитать о ранних машиниматорских опытах, попытках исследователей классифицировать новый феномен и его спорных социальных и политических обещаниях.
Машина кино и фильмы игры
№1. Ряд высоток скрывается в туманном сумраке, редкие звезды угрюмо болтаются в небе – недвижный пейзаж, который оживляют лишь поблескивающие огоньки на антеннах и столбах. Внезапно он стремительно светлеет и заливается жгучей рыжиной рассвета.
№2. Небо так высоко и ясно, что кажется выкрашенным в гротесковую лазурь. Лишь изредка по нему проплывают разрозненные пухлые облака, похожие друг на друга, словно отпечатаны одним паттерном.
№3. Темно-серая дорога теряется в черноте. Над ней – сплетение белых созвездий, которые кажутся яркими, пока над головой не взорвется первый фейерверк. За ним – другой, третий, звезды теряются, и вот все вокруг пульсирует от взрывающихся разноцветных шаров.
Эти заметки – описания сцен из трех видео: «Посторонний» (2023) Алексея Грицевича, «Облака Супер Марио» (Super Mario Clouds, 2002) Кори Аркангела и «С Новым годом, Джим» (Happy New Year, Jim, 2022) Андреа Гатопулоса. Все они являются машинимой, роликом, созданным на движке видеоигры. Их медиальная специфика, определяемая техническим базисом и способом производства, не идентична медиальной специфике кино – будь то лента с живыми актерами, полноценный CGI-проект, приближающийся к логике анимации, или экспериментальная форма, апроприирующая «готовые» визуальные материалы как собственные ресурсы. Притом машинимы нередко описываются как фильмы, где важно обратить внимание на визуальную составляющую, сюжет, тему и даже мастерство перформера. Больше того, они не только описываются, но и смотрятся как фильмы – с соответствующей практикой демонстрации в кинотеатральном зале и сосредоточенным зрителем, готовым смотреть видео от начала до конца.

Разумеется, подобное заявление опирается на общие утверждения, ведь машинимы, как минимум, показывают онлайн и в галереях, в домашних условиях фильм легко остановить, а современный зритель привык, что темный кинозал то и дело освещается экранами смартфонов. Но публичная история машинимы будто намеренно содействует стиранию границ и мотивирует показывать работы машиниматоров вместе с работами кинематографистов. Здесь можно вспомнить, что первоначально Энтони Бейли и Хью Хэнкок предлагали ввести термин «машинема», «machinema», где объединялись бы слова «machine» и «cinema», а игры буквально синтезировались с кино, и лишь из-за быстро популяризировавшейся опечатки устоялось написание «машинима», «machinima», которое, правда, было позже объяснено через включение медиа анимации [1]. Затем несложно добавить, что машинимы увлекли не одного режиссера экспериментального кино – Пегги Авеш, обратившуюся к «Tomb Raider» в «Она марионетка» (She Puppet, 2001), путешествовавшего по миру «Second Life» Криса Маркера, Харуна Фароки, который исследовал возможности игровых миров в квадриптихе «Параллели I-IV» (Parallel I-IV, 2012-2014), и Фила Соломона с его визионерской интерпретацией «GTA». Можно отметить и практику демонстарции машиним на кинофестивалях, где они появляются не только в рамках специальных программ (как их представили Владимир Надеин и Дмитрий Фролов в Оберхаузене и Тронхейме или Константин Ремизов на Фестивале невидимого кино), но и в рамках конкурса (как предлагает Михаил Железников в In Silico на «Послании к человеку»). Наконец, допустимо обратиться к понятию ремедиации, которое подрывает идею уникальности новых медиа, призывает различать в них опосредованные и трансформированные медиа-предшественники и регулярно используется исследователями машинимы в поисках ее специфических черт. Все перечисленное дает концептуальные и институциональные основания объединения кино и машинимы, но за ними можно обнаружить еще один аспект, какой можно было бы назвать эстетическим. Подобно кино, видео на базе игр видео будто предлагают и предполагают, что человек, который с ними встретится, 1) обратит и задержит на них внимание, чтобы 2) испытать новый опыт – 3) более отчетливый, чем предлагает сиюминутный развлекательный контент, но 4) менее обязательный, чем требует институциональное искусство.
Любить, снимать, классифицировать
Чем же является машинима? Хотя выше она была представлена как видео, сделанное на базе видеоигры, существуют более широкие определения – к примеру, классическая формулировка Полая Марино: «анимационное кинопроизводство в системе реального времени виртуальной 3D-среды» [2]. Подобное понимание позволяет относить к машинимам ролики, которые были созданы с помощью программ моделирования, напоминают о геймерской эстетике, но не используют соответствующее обеспечение. Возможно, поэтому в пользовательские списки столь часто попадает «Дневник сновидений 2016-2019» (Dream Journal 2016-2019) Джона Рафмана, художника, действительно работающего с видеоиграми, но не обращавшегося к ним для (вос)создания безумных онейрических образов. «Во многих своих аспектах машинима как арт-практика далеко ушла от игрового контекста», однако, как отмечает Ярослава Исмукова, «именно связь с ним определяет ее аутентичность и обособленность от других визуальных арт-практик, таких как видеоарт, анимация и экспериментальный кинематограф» [3].

Впрочем, и сам Марино возвращался к геймерской сфере, когда уточнял: «машинима – смесь нескольких творческих платформ – кинопроизводства, анимации и технологии 3D-игр». И пусть последнее понятие завершает перечень и кажется незначительным, концептуально оно является существенным. Ведь видеоигра предлагает пользователю не только технологический ресурс и инструментарий, но и определенный набор правил и действий, соблюдение и выполнение которых обеспечивает поддержание игрового процесса. И именно через трансформацию заданного создателями алгоритма, нарушение предустановленной логики и творческую апроприацию, инициирующую новые условия для восприятия, которые реципиент должен принять или отказаться от просмотра, определяется сущность машинимы.
Значение этих процессов подтверждает первый же пример такого медиа. Обычно в его качестве приводят «Дневник кемпера» (Diary of a Camper) – 1,5-минутное видео 1996 года, сделанное в шутере «Quake». Ролик напоминал традиционные deathmatch-записи и демонстрировал, как кемпер, игрок, занявший выгодную выжидательную позицию, расправляется с представителями клана «Рейнджеры». Однако он оказался новаторским благодаря продуманным ракурсам, присутствию диалогов и драматургическому наброску, превращавшему регистрацию матча в подобие истории.
Не все исследователи сходятся во мнении, что «Дневник кемпера» может претендовать на статус первой машинимы, и в качестве альтернативы называют эксперименты художника Мильтоса Манетаса, в том же 1996 году открывшего серию работ под названием «Видео после видеоигр». Его ролики, предлагавшие понаблюдать за (не) способной умереть Ларой Крофт или спящим Марио, были еще менее сюжетно-ориентированными и, скорее, представляли критические видео, обнадавшие симуляционные механизмы. В отличие от авторов «Дневника кемпера», Манетас призывал признать скуку геймерского опыта и переключиться на созерцательный режим вместо того, чтобы думать о прохождении. В своем манифесте он определил фигуру «внутриигрового постхудожника», который «не создает ничего нового, но извлекает из игры скрытые в ней идеи, внимательно исследуя парад символов, игрой предлагаемый». Такой «художник не играет в игру, но вступает в отношения с ней» [4].

Последующая более или менее конвенциональная история машинимы зафиксирована и достаточно детализирована в англоязычном пространстве. Притом об основных эпизодах классической хронологии можно узнать и в русскоязычных текстах, будь то вводный текст для сообщества геймеров, маркетинговый лонгрид для образовательной платформы или объемная медиархеологическая статья. Потому вряд ли стоит в очередной раз воспроизводить рассказы о буме Quake movies, появлении Machinima.com, легендарном сериале «Red vs. Blue» и других поворотных точках. Скорее, стоит обратить внимание, что проект Манетаса и «Дневник кемпера» намечают две линии становления: одна из них представляет критическую машиниму, мало заинтересованную в зрителе; другая – машиниму повествовательную, стремящуюся не только сместить фокус внимания аудитории, но и «компенсировать» новую позицию искренним интересом. Традиционная история кино с выделенными в ней линиями братьев Люмьер и Жоржа Мельеса доказывает, что подобная универсализация коварна и может привести к грубой генерализации.
Однако та же универсализация позволяет предварительно очертить границы нового феномена. И в вариативном многообразии машиним, которое провоцирует исследователей создавать сложные жанровые классификации (на манер Элайджи Хорватта, выделяющего авангардные, аутсайдерские, политические и документирующие игровой процесс работы), простая бинаризация способна оказаться более полезной. Потому наиболее распространенная дифференциация ограничивается любительской (можно вслед за Маттео Биттанти назвать ее вернакулярной) и арт-машинимой (она же авангардная или художественная (artistic)). Ключевые критерии их различения – статус автора и стратегия дистрибуции, хотя к ним можно добавить нарративную насыщенность, тематическую ориентацию и критический потенциал. Так, любительские машинимы создаются игроками, не претендующими на институциональный статус художника, и распространяются посредством личных каналов, зачастую не имея четкого представления о целевой аудитории. В свою очередь, арт-машинимы производятся как концептуальные проекты, следующие или, наоборот, сопротивляющиеся современным тенденциям арт-рынка, но непременно интегрированные в его профессиональный контекст.
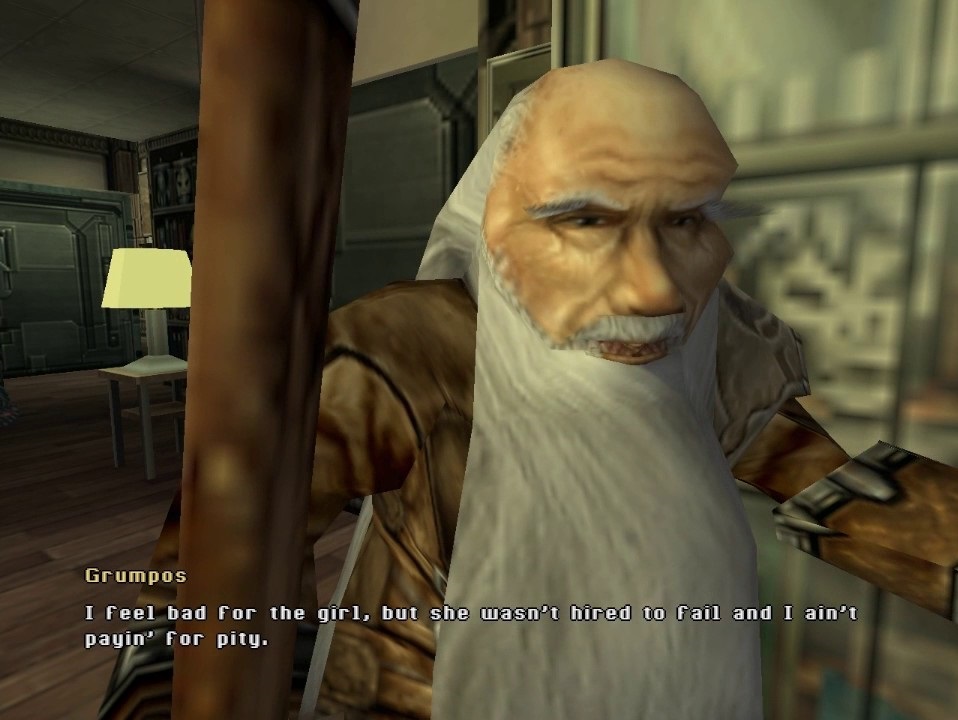
В рамках любительских машиним, позиционирующих ролик как самостоятельное творческое произведение, можно отдельно выделить машинимы геймерские. Последние используют видео в качестве подручного инструмента для демонстрации игрового мастерства, ориентируются на конкретное сообщество заранее заинтересованных зрителей и потому иногда определяются как наиболее аутентичный вид контента в «высоконкурентном пространстве» пользователей видеоигр [5]. В эту расширенную структуру не попадут профессиональные коммерческие видео, сделанные для студий, – вроде «Anachronox: фильм» (Anachronox: The Movie, 2003, реж. Джейк Страйдер Хьюз) от Ion Storm или «Red Dead Redemption: Парень из Блэкуотера» (Red Dead Redemption: The Man from Blackwater, 2010, реж. Джон Хиллкоут) от Rockstar Games – однако намеченная выше оппозиция между любительской и арт-машинимой и не стремится к полному охвату. Скорее, эта пара определяет вектор становления медиа и в рамках данного текста, спровоцированного интеграцией машиним в дискурс кино, может быть более полезной, чем разветвленная классификация.
Резистентность и доступность
Одна из ключевых идей, которая позволяет соединить обе группы, исходит из положения, что «машинима была движением снизу-вверх, которое инициировало сообщество» [6], то есть низовой практикой, подрывающей властную конструкцию игровой индустрии. Оно превращает практически любой ролик, созданный пользователем на базе видеоигры, в своеобразный инструмент сопротивления, средство освобождения и способ де(кон)струкции капиталистических установок. Так, игроки-машиниматоры нарушают предполагаемые правила или предложения игры, чтобы создать и затем передать своей аудитории альтернативный способ взаимодействия – например, наивную туристическую прогулку по криминализованному городу, которую совершает Джим Монро в «Моем путешествии по Либерти-Сити» (My Trip to Liberty City, 2003) вместо того, чтобы кулаками и битами прокладывать дорогу к поставленной разработчиками цели.
В силу резистентного ли характера или сомнительного правового статуса, но часть компаний на манер Microsoft и вправду отнеслась к машиниме с подозрением. Другие студии стали использовать открытия машиниматоров для фиксации и исправления ошибок (о чем, например, рассказывается в «Бабулях» (Grannies, 2019) Мари Фулстон). А третьи, оценив эффект подобных видео в качестве бесплатной рекламы, последовали примеру Epic Games и id Software и начали активно содействовать производству любительских роликов, предоставляя данные игровых движков, интегрируя в готовый продукт инструменты для модификации и внутриигрового кинопроизводства. Для руководителей последних компаний создание машиним энтузиастами стало способом промоутирования проектов, который можно поддерживать посредством лояльного отношения к свободному использованию игрового контента и пересмотра лицензионных ограничений. Кроме того, образовавшееся сообщество машиниматоров быстро превратилось в среду, где те же руководители могли найти новых сотрудников – достаточно изобретательных, опытных и технически подкованных, чтобы перейти из статуса воодушевленного аматера в статус нанятого профессионала. Трейси Харвуд замечает, что последняя тенденция содействовала смене поколений машиниматоров и появлению новых имен в сфере, но вместе с тем признает, что она же лишает сообщество активных креативных агентов [7].

Протестный, если не сказать анархический, характер машинимы оспаривается индустрией, которая (как и любой другой успешный экономический сектор) ловко реапроприирует изобретения пользователей. В свою очередь, манифестация открытости сообщества любителей машинимы ставится под вопрос самим сообществом. Так, неоднократно отмечалось, что объединение создателей и поклонников машинимы сформировано, в первую очередь, представителями привилегированной социальной группы, – белыми мужчинами из среднего класса, технофилами в возрасте от 15 до 45 лет [8]. Представленный портрет аудитории был выведен в начале 2010-х и не совсем актуален сегодня, ведь машиниматорки перекраивают дискурсивное поле и задают отдельные тенденции – как, к примеру, произошло с симс-сериалами, привлекшими аудиторию литературного фанфикшена и ставшими одним из наиболее распространенных и устойчивых жанров в русскоязычном пространстве. Они же совершают критические интервенции, которые воплощаются в проекты наподобие «Играя девушку» (Playing A Girl, 2012) Анджелы Вашко, побуждают исследователей надеяться на изменение ситуации [9] и заставляют сомневаться в гомогенности сообщества.
Однако если идея гендерной однородности аудитории больше нерелевантна, то принцип экономической сегрегации не просто сохраняется, но усиливается влиянием символического капитала в контексте распространения арт-машинимы. Работающая с фестивальной и музейной аудиторией, она обеспечивает функционирование «эстетического гетто», замкнутого изнутри и закрытого для внешней публики. Как пишет Роберт Джонс, «во многих отношениях машинима перешла от дискурса компьютерной элиты к более крупной субкультуре в рамках расширяющейся культуры видеоигр, но она также превратилась в мощное средство коммуникации, по-прежнему зарезервированное лишь для тех, у кого есть средства и знания» [10].
Вместе с тем Джонс отмечает: «Переход от печатного станка к телеграфу, радио, телевидению и далее к интернету в равной степени сопровождается историями о расширении прав и маргинализации». И границы проявления резистентного потенциала машинимы действительно оказываются заданы в числе прочего технически (что политически мотивировано не в меньшей степени, чем перечисленные выше социальные факторы). Так, уже упоминавшийся Хью Хэнкок – пионер, практик, теоретик, популяризатор и искренний апологет машинимы, видевший в ней перспективу альтернативного кинопроизводства, – составил целый список людей, которые никогда не смогут сделать столь ценимые им видео: человек, не разбирающийся в программном обеспечении; человек со «слабым» компьютером; человек без интернета [11]. Перечень был составлен в 2011 году, но сегодня очевидно, что отсутствие компьютера и интернета – не рутинная задача, а фундаментальная проблема, которая в реалиях XXI века изымает людей из дискурсивного пространства, лишает их доступа к знаниям и свидетельствует об утопическом характере общей информационной доступности.
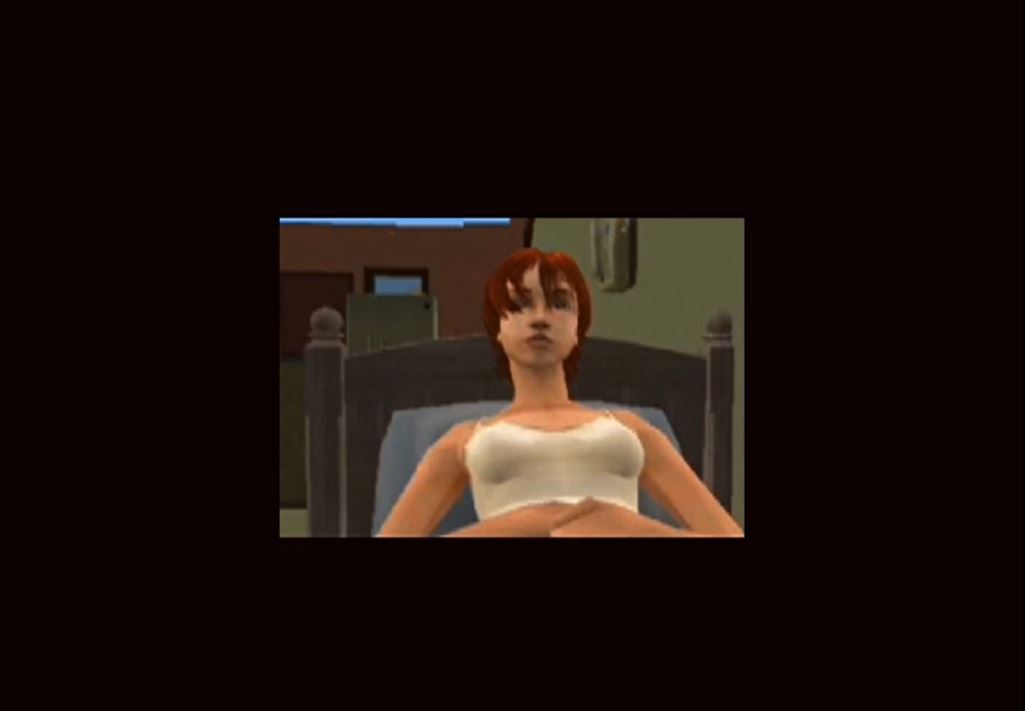
Спорный вопрос доступности машинимы резонирует с сомнениями в ее инновационном характере. В том же 2011 году режиссер Питер Гринуэй провозглашал смерть кино и призывал начать что-то новое. Это «что-то» он распознавал в машиниме, которой следовало отказаться от медиальных грехов XX века, в частности, от текста, превратившего фильмы в клишированные иллюстрации. Но как замечает Константин Ремизов, появление Гринуэя в «Second Life» повлияло на пользователей ровно противоположным образом и привило «тамошним авторам избыточную иллюстративность, нанизывание изображений на словообильные субтитры и звуковые дорожки».
Примечательно, что еще в начале 2000-х исследователь и независимый режиссер Лео Беркли решил поработать с машинимой и проверить, насколько перспективной альтернативой она является по сравнению с привычным кинопроизводством. Он создал в «Sims 2» «Завязывая с Андре» (Ending With Andre, 2005), а позже написал статью, где отмечал непривычные аспекты работы с видеоиграми – в частности, элемент случайности и необходимость взаимодействовать с алгоритмом. Однако он признавал, что интерес подобных практик ограничен процессом производства, в то время как перспектива дистрибуции ограничивается правовым регулированием, а зрительская привлекательность преувеличена, ведь «машинима свидетельствует о продолжающемся культурном влиянии и распространении кинематографических и телевизионных форм повествования» [12].
Примечания:
[1] Harwood T.G., Grussi B. Pioneers in Machinima. The Grassroots of Virtual Production. 2021. P. 10.
[2] Marino P. 3D Game-Based Filmmaking. The Art of Machinima. 2004. P. 1.
[3] Исмукова В. Вне игры: о Машиниме и новой образности // Новое литературное обозрение. 2019. 4 (158). С. 228-242.
[4] Цит. по: Ранняя история машинимы: 1996-1998
[5] Jones R. Does machinima really democratize // Journal of Visual Culture. 2011. 10 (1). Pp: 59-65. P. 60.
[6] Harwood T., Grussi B. Op. cit. P. 169.
[7] Harwood T. Towards a manifesto for machinima // Journal of Visual Culture. 2011. 10 (1). Pp: 6-12. P. 8.
[8] Hancock H. Machinima. Limited, Ghettoized, and Spectacularly // Journal of Visual Culture. 2011. 10 (1). Pp: 31-37. P. 33.
[9] См., например: Vandagriff J., Nitsche, M. Women creating machinima // Digital Creativity. 2009. 20 (4). Pp: 277-290.
[10] Jones R. Op. cit. P. 63.
[11] Hancock H. Op. cit. P. 33.
[12] Berkeley L. Situating Machinima in the New Mediascape // Australian Journal of Emerging Technologies and Society. 2006. 4 (2). Pp: 65-80. P. 67.
Текст Мария Грибова

