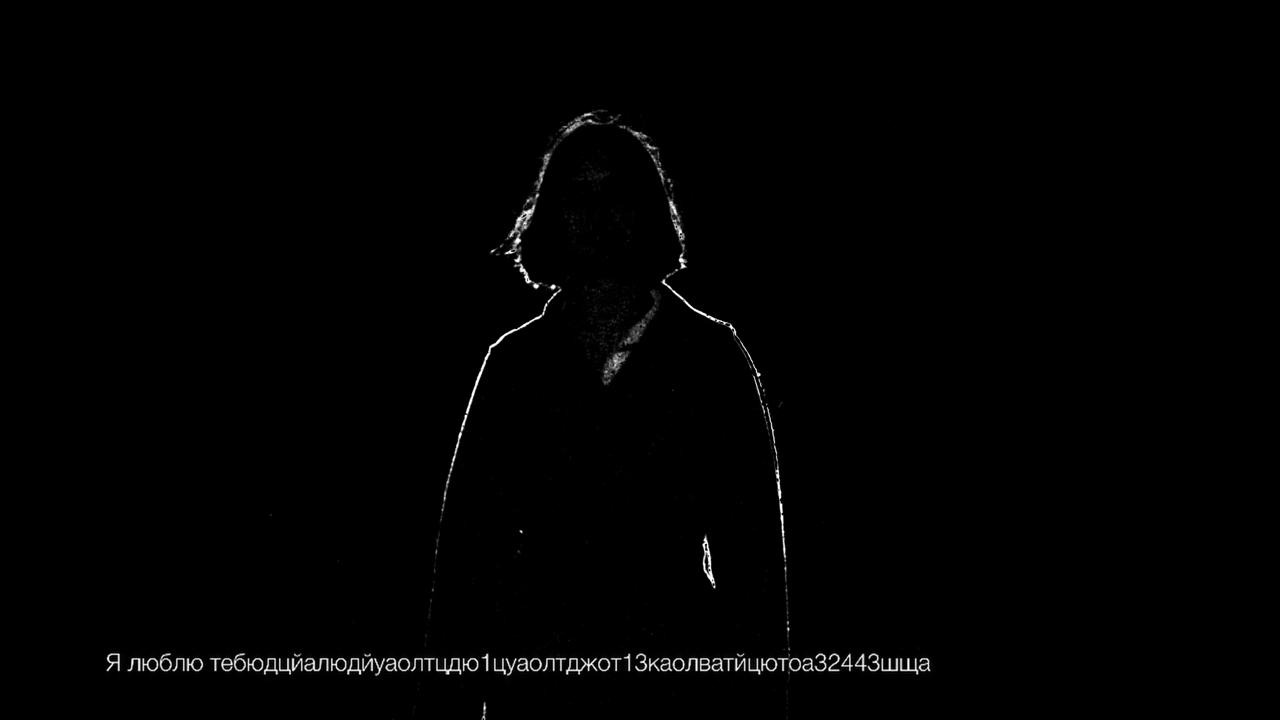Шоукейс фестиваля видеоэссе БЛИ(К)
Как отмечает медиатеоретик Лев Манович, то, что было прерогативой авангардного письма — нелинейность, комбинаторность, мультимедийность — стало каждодневной практикой большинства людей. Пионер киноэссеистики Крис Маркер говорил: «Вы выражаете себя гораздо полнее через чужие тексты», или чуть дополним его мы — через комбинацию своих и чужих текстов и видео, используя технику и медиа как протезы, как фильтры, преломляющие образы и мысли. С самого начала фильм-эссе был «жанром», ускользающим от чётких дефиниций, не желающим быть в точности определенным и заключенным в рамки. Наследующее ему видео-эссе — ещё более призрачная сущность эпохи Web 2.0. С предшественником его роднит субъективность, пристрастность, фрагментарность. Гибридная природа аудиовизуальной эссеистики, как уже было сказано, ныне ощущается чем-то вполне привычным, приближенным к нашему будничному опыту, но в этой привычности кроется опасность профанации и угасания мысли. Как сохранить еретический, критический и терапевтический потенциал видеоэссе? Например, через отказ от стремления к совершенству формы.
Об этом мы попросили рассказать Максима Селезнева — кинокритика, видеоэссеиста, ведущего telegram-канала movie (never made):
За последние годы слово «видеоэссе» из подозрительного и будто бы чрезмерно возвышенного стало общеупотребимым, если не модным. Свои видеографические отделения есть у крупнейших сайтов о кино типа MUBI, Sight&Sound, Кинопоиска; самые популярные эссеистические каналы на YouTube собирают сотни тысяч просмотров; премьеры фильмов на престижных фестивалях порой предваряют показы критических видео. Эссеистика стала респектабельной, технически более качественной, но именно в этом стремлении к стандартам качества, теряющей те свойства, что были в ней самыми главными — субъективность, вдохновенную хаотичность, субверсивность.
В 2023 году видеоэссеисты Эвелин Кройцер и Йоханнес Бинотто опубликовали «Манифест видеографической уязвимости», в котором они в том числе вспоминали буквальное значение французского «essayer»: пробовать, испытывать, тестировать и... (не бояться) терпеть неудачи. «Совершенство — это болезнь», — писали Кройцер и Бинотто, предлагая вместо стремления к идеальной форме или полноте высказывания на ту или иную тему, «задействовать те инструменты, что есть у вас под рукой и применять их необычными способами».
Кажется, видео из представленной подборки могут стать хорошей иллюстрацией этих слов. Каждое из включенных в нее эссе обладает собственным очаровательным несовершенством. Каждое выглядит не как строгое высказывание на заданную тему, но скорее как множественные попытки коснуться какого-то вопроса, коснуться разными интонациями, с разной степенью серьезности, используя разные выражения и стили. И чем более ломкими оказываются их голоса, тем более запоминающимися они оказываются.
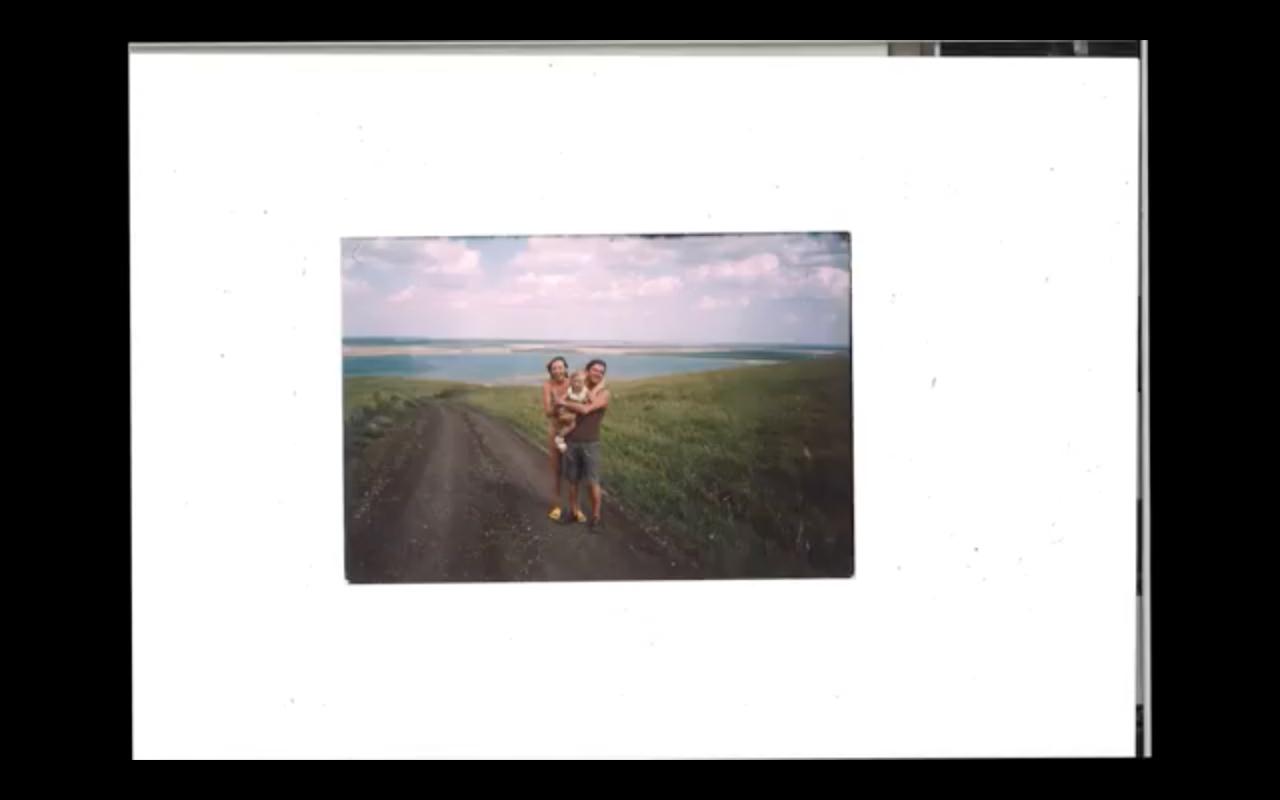
Собираемые БЛИ(К) видеоэссе часто обращаются к тому, что режиссерка и медиатеоретик Хито Штейерль называет бедными и скитающимися изображениями: найденными на archive.org или лентах TikTok, YouTube и Instagram, снятыми самими авторами на смартфон или недорогую камеру, а порой на технику устаревшую, но обладающую своей исключительной ауратичностью. Куратор и исследователь Юрий Меден отмечает: «Устаревание отдельного медиума и есть то, что придает ему свежести, критической остроты, силы и некоторой новизны, выходящей за рамки трендов и тенденций торговли». Исключают из бесконечного цикла товарно-денежного обмена и несовершенное, хрупкое, любительское.
Несовершенство провоцирует дискомфорт, заставляет реагировать, а значит — выходить из позиции пассивного созерцания. Как пишет, анализируя восприятие фильмов-эссе, исследовательница Лаура Раскароли: «Каждый зритель – как личность, а не часть какой-либо анонимной, коллективной публики – приглашается к участию в диалоге с художником, к интеллектуальной и эмоциональной активности, к взаимодействию с текстом».
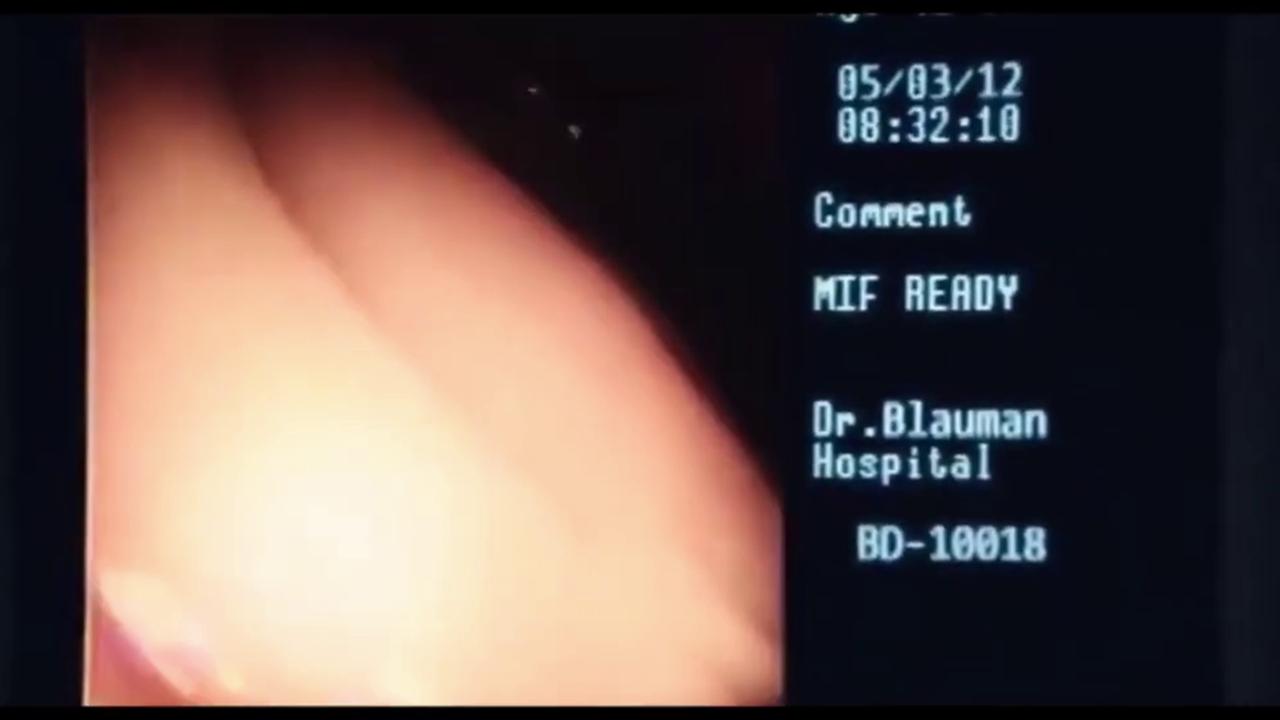
О программе 2024-го года, семь работ из которой представлено ниже, рассказывают кураторки фестиваля:
Есть такое мнение, что прямой комментарий автора в кино не дает тебе самому осмыслить увиденное. Будто уже кто-то сделал выводы за тебя. Программа фестиваля видеоэссе и видеопоэзии в 2024-м подбиралась так, чтобы в этом усомниться. Нам хотелось показать, как в форме видеоэссе взаимодействует вербальный текст с изображением и что информативность не мешает образности.
Сначала мы понимали видеоэссе как нечто близкое к неигровому кино и, скорее, киноэссе как форму последнего. В процессе отбора работ на фестиваль поняли, что видеоэссеистика куда шире и ей не чужды постановка, анимация и документальные методы.
И хотя звучит, может быть, заумно, намерения у нас были хорошие — дать свободу любому закадровому комментарию, каждому авторскому голосу.
— Виталина Захарова
Не в последнюю очередь сыграло и то, что в программе различались интонации отобранных видеоэссе. В фокусе у одних авторов – игра с текстом, звуком, формой; у других – нет погружение в контексты происходящего вокруг. Единство в том, что на первом плане — собственные ощущения, которые и оформляют сюжеты видеоэссе.
— Арина Григорян
maya by eva - eva r
Потерянность, невозможность возвращения и дрейф в неизвестность — таковы сквозные мотивы этой интимной и загадочной работы, подключающей зрителя к ситуации после катастрофы, когда «разлетелись буквы, тихо везде и в речи и в письме». Пролитые в кадре слезы становятся политическим высказыванием («личное это политическое»), а съёмки дневниковых материалов — «кинематографической практикой собирания себя».
film смотрит нас - Маша Панина
За год до своей смерти комик Бастер Китон, «человек с каменным лицом», появился в коротком метре Сэмюэла Беккета «Фильм» — о невыразимом ужасе перед тем, что всякий человек подвластен чужому взгляду и восприятию. Маша Панина «пришла в этот фильм» и рассуждает о том, чей взгляд властвует над фильмом (и «Фильмом») и в каком положении находится зритель: подстрекателя, жертвы? Лукавое эссе напоминает о том, чт просмотр — это опыт во времени, и предлагает практики сопротивления/смирения с фильмом, что подставляет себя нашему взгляду.
выйти на улицу и не поскользнуться. визуализация голоса - Ира Островская
Петербургское зимовье омрачают сосули. Феноменологическое эссе Иры Островской собирает наблюдения за городом и рассказы о сходе снега с крыш, описания айсбергов, травм и визитов к профильным специалистам, когда все-таки прилетело. Вывернутый наизнанку репортаж о ежегодном депрессивном эпизоде горожан, которые все равно видят «красоту деструктива» в состоянии опасности.
Муха в чемодане - Наталья Гондалева
«Я верю, что смысл — он сам себя скажет» — эта афористичная формула (и, возможно, Modus operandi автора) звучит в начале «Мухи в чемодане», почти сразу после звуковых сэмплов из балабановского «Брата» и стремительного потока разрозненных изображений. Фрагментарная сущность видеоэссе явлена в работе Гондалевой в концентрированной форме: встык монтируются собственные полные цифрового зерна кадры, фрагменты фильма Ксавье Долана, переснятые с экрана ноутбука и абстрактные рисунки. Воедино все сшивают желтые, будто от руки написанные субтитры, фиксирующие авторскую меланхолию и растерянность.
человек, Лицо - Анна Собкина
«Дикий, дикий пляж» Александра Расторгуева сыплется на стоп-кадры и аберрации. Распаренные югом физиономии комментирует будто далекий голос: «Лица по социуму кругами ходят». Анна Собкина напоминает, что классическая работа документалиста двадцать лет спустя — это галерея фантомов, уже не соотнесенных со временем (то ушло вперед). Остаются только их лица, в которых разом карта и лабиринт, ключ и тайна.
Орнамент 1 - Габриела Селиванова
Визуально каждая минута «Орнамента 1» насыщена разнообразной информацией — архивными кадрами, фотографиями, авторскими съемками, упакованным в субтитры изощренным повествованием, рефлексирующим орнамент как род композиции, как метафору и метонимию, как философский концепт и «плоскость, о которую бьешься головой». Аудиально работа Селивановой беспощадно атакует зрителя зацикленным голосовым сэмплом, равно изматывая и гипнотизируя бесконечными повторениями. Аудио/визуальная природа эссе явлена нам во всей очевидности, через атипичные отношения звука и изображения. По заветам Лауры Раскароли здесь «вопросы текстового и контекстуального обрамления находятся в центре критической практики».
Она(минус) и лес(плюс) - Максим Иваненко
Работа Максима Иваненко напоминает о насильственной природе интерпретации. Немые визуальные образы снабжены подписями и «оценкой»: плюс, минус. Эти авторские субтитры не подлежат отключению, становясь неотъемлемой частью изображения. Какова их роль? Обеднить видимое или отвести взгляд, украсть многозначность или приумножить ее, придать связность или растолочь на кадры?
Подготовил Александр Подборнов