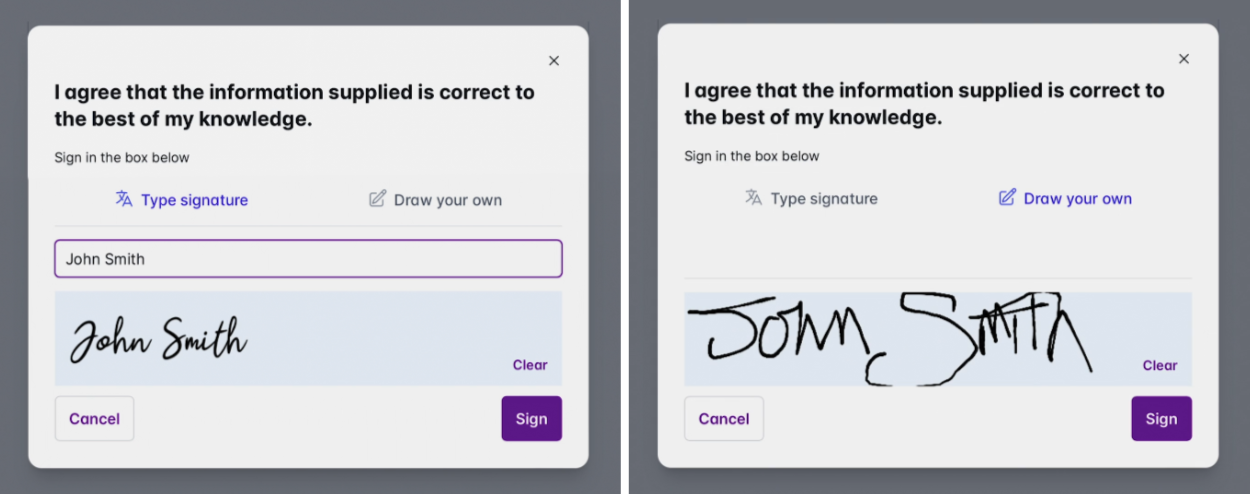Дайджест 13.11.
Что почитать?
Инна Кушнарева подготовила справочник по новой волне к релизу одноименного байопика Ричарда Линклейтера.
«Американская актриса, открытая Отто Премингером, который стал ее учителем и покровителем. Дебютировала в его фильме „Святая Жанна“, затем снялась в экранизации нашумевшего романа Франсуазы Саган „Здравствуй, грусть“. Была связана с Премингером эксклюзивным контрактом, но молодому французскому юристу Франсуа Морёю, ставшему ее мужем, удалось ее от него освободить, заключив от ее лица контракт с Paramount. Морёй увез Сиберг во Францию и собирался сам снимать ее в кино. Годар воспользовался готовой репутацией Сиберг, взяв ее как цитату из фильмов Премингера, а продюсеру Жоржу де Борегару продал ее как „американскую звезду“.
На самом деле в конце 50-х Сиберг переживала застой в карьере: студия Paramount ничего ей не предлагала, кроме курсов актерского мастерства. Тем не менее гонорар Сиберг в фильме Годара в два раза превысил гонорар Бельмондо, тоже не маленький по меркам скромного бюджета.
Уже в 1959 году Сиберг разведется с Морёем и выйдет замуж за известного французского писателя Ромена Гари. После развода с Гари ее личная жизнь была бурной, она еще пару раз вышла замуж, у нее были романы с авантюристами и сомнительными личностями. Сиберг страдала алкоголизмом, наркозависимостью, не раз попадала в лечебницу, мужья и любовники ее били. Когда в 1979 году в возрасте 40 лет она покончила с собой, Гари на пресс-конференции выдвинул обвинения против ФБР: в отместку за финансирование актрисой „Черных пантер“ бюро якобы распустило слухи, что Сиберг беременна от одного из лидеров „Пантер“, и эта кампания вызвала нервный срыв, пустивший под откос ее жизнь».
***
У Оливии Лэнг выходит новая, «Серебряная книга», пока что не на русском (на это шансов, увы, немного). Лэнг исследуют последние дни жизни Пьера Паоло Пазолини и загадку его гибели — сюжет, который автор считают донельзя актуальным сейчас. Из интервью изданию AnOther Magazine.
«Я думаю, это напрямую связано с нашим временем: 1975 год — момент политической турбулентности между ультралевыми и ультраправыми, и Пазолини оказывается в самой гуще, делая зловещие пророчества. Он не замолкает: пишет в газетах, постоянно вещает, и говорит он вот что: фашизм вернется. Только он не будет выглядеть, как во Вторую мировую: фашисты не войдут строем в высоких сапогах и нацистской форме. Он сольется с капитализмом. Он уничтожит экологию. Он разрушит социальную ткань. Он создаст угрозу для всех нас. Думаю, он увидел наш нынешний момент раньше всех. Именно это жуткое чувство меня и охватило. Фильм „Сало, или 120 дней Содома“ — это его предупреждение. И говорит он там не только о том, что фашисты опасны и жестоки. Он говорит, что истинная опасность — быть покорным и причастным. Жертвы в этом фильме — как лунатики; они не могут проснуться. Думаю, Пазолини говорит: „Проснитесь, черт вас дери!“».
Ключевым персонажем книги становится Данило Донати, выдающийся художник по костюмам, работавший и на «Сало» (Salò o le 120 giornate di Sodoma, 1975), и на «Казанова Феллини» (Il Casanova di Federico Fellini, 1976, реж. Федерико Феллини) — в год убийства Пазолини неизвестные украдут фрагменты обоих фильмов; как и гибель режиссера, это преступление останется нераскрытым. Из разговора Лэнг с Китти Грейди:
«Я представляю себе, как они работали над „Сало“, неизбежно опираясь на собственные воспоминания. Данило, например, вернулся к пейзажу своей юности, наблюдая за реконструкцией того, как нацистские солдаты арестовывают двух мальчиков на велосипедах — ведь он сам когда-то был одним из этих мальчиков.
Искусство стало формой расплаты: он не просто шил костюмы, он выставлял фашизм напоказ, настаивая на том, чтобы мы не забывали о нем. И меня поразило, что, хотя мы часто относимся к режиссеру как к единственной творческой силе фильма, в великие фильмы каждый вносит что-то свое, основанное на собственной психике, политике и опыте. Смещение акцента с Пазолини показало, что визажист, художник по костюмам — все они думали, чувствовали, вспоминали».
***
У Михаила Ямпольского появилась новая книга «Жизнь — смерть. Лицо — тело», подготовленная в издательстве «Сеанс». В опубликованном на сайте фрагменте встречаем рассуждения о «невидимом флюиде funiculus», пневматическом насосе Роберта Бойля и «характерных головах» Франца Ксавера Мессершмидта.
«...Но, пожалуй, самый интересный случай непрочитываемых гримас связан с экспрессивными головами Франца Ксавера Мессершмидта. Между 1775 и 1780 годами он создал удивительную серию голов, по преимуществу автопортретов (как у Рембрандта и Буальи), искаженных причудливыми гримасами, не имеющими внятного физиогномического смысла. Их никак не удается связать с тем или иным аффектом души. Головы Мессершмидта включены в общую флюидную механику космоса, который непосредственно приводит в движение мышцы тела и лица, амплифицируясь с помощью специальной машинерии. Гримасы Мессершмидта нельзя понять, потому что они имеют чисто гравитационно-магнетический и механический характер. И это, я думаю, возможная причина того, что скульптора провозгласили сумасшедшим, хотя, если бы он действительно был невменяемым, к нему бы не обращались с заказами.
Сходный с Мессершмидтом случай являет собой неудавшийся архитектор Жан-Жак Леке, который в последние годы привлек к себе внимание и был извлечен из забвения. Леке, как и Мессершмидт, имел репутацию безумца, чему способствовала, мягко говоря, эксцентрика его работ. Он, например, изобразил себя в виде женщины с обнаженной грудью. Ему принадлежит теоретическая рукопись „Новый метод, приложенный к основным принципам рисунка, направленный на усовершенствования графического отображения головы человека с помощью геометрических фигур“».
***
Подытоживаем книжный обзор. У Абеля Феррары вышли воспоминания, о которых любовно рассказывают на Screen Slate.
«Я ждал именно эту книгу — от юродивого даунтаун-кинотеатров собственной персоной. От типа с душком, снявшего „Плохого лейтенанта“, „Короля Нью-Йорка“, „Мисс сорок пятый калибр“, „Опасную игру“ и „Амнезию“ — фильмы, от которых тянет дымом крэка, католической виной и ночными терзаниями. „Сцена: мемуары“ Абеля Феррары — это не вылизанный проект тщеславия; скорее исповедь на углу улицы — или, на ваше усмотрение, демоническое руководство к действию.

Феррара пишет так же, как снимает: грязно, маниакально, с дырявящими текст озарениями. Здесь всему нашлось место: годам наркозависимости, искусству, халтуре, подругам и вечной католической вине. То он описывает следующий „укол“, то вспоминает, как Харви Кейтель буквально бросил сценарий „Плохого лейтенанта“ в мусорное ведро. Искупление, скрывающееся в урне, — богословие Феррары в одном образе.
Он никогда не отделяет жизнь от работы — в этом и его шарм, и его проклятие. Его мемуары читаются как обжитой кинематографический манифест, написанный после десятилетий, когда он „ел дерьмо“, снимал „на парах“ и пытался превращать мусор в искусство. Честность обжигает. Он признается, что потерял миллионный проект „Путь Карлито“ после того, как стащил бутылку вина у главы Universal в Каннах; что платил Азии Ардженто по 1500 долларов в неделю мелкими купюрами на съемках „Отеля „Новая роза““; что отнесся к музыкальной врезке These Boots Are Made for Walkin’ в „Цельнометаллической оболочке“ почти как к религиозному прозрению».
***
Зовет к дискуссии — а это редкое сегодня качество — текст Тимура Алиева «„Этот мыльный пузырь скоро лопнет“: почему не нужно столько кинокритиков и кинорецензий?», опубликованный на «Афише».
«Парадоксально: индустрия не нуждается в критике, но профессия остается очень популярной — особенно среди молодежи. Это создает порочный круг: избыток новичков, готовых писать бесплатно или за ничтожно малые деньги, замедляет рост гонораров, в результате чего достойный доход не могут себе обеспечить даже опытные авторы. Киношкол и мастерских критики становится ничуть не меньше, чем кинофестивалей в России, а количество людей, которые туда поступают (как правило, за весьма немаленькие деньги), заставляет схватиться за голову.
Возможно прав мой коллега Егор Москвитин в оценке этих людей: „Родились, чтобы заживо сгореть в кинотеатре“. Неудивительно, что никто до сих пор не пытался помочь профессии с помощью системных мер, если в нее приходят люди, которые принимают будущие неудачи как часть пути и не ставят перед собой никаких целей. Кажется, что главная проблема киношной медиасреды — не в низких гонорарах, отсутствии соцвыплат и некликабельности экспертизы. Складывается впечатление, что критическая мысль больше не востребована аудиторией».
***
На Cineticle вышел перевод рецензии Джонатана Розенбаума на однокадровый фильм «Чистая правда / Один час» Роберта Франка, выполненный блистательным Дмитрием Буныгиным (как освежает мысль, что современность сколочена из часов, которые мы способны делить с Дмитрием).

«„Я видел этот фильм семь раз — и с каждым разом понимал его всё меньше“, написал однажды Люк Мулле о неподдающемся расшифровке шедевре Рауля Руиса „Слепая сова“. Не думаю, чтобы у этого фильма Руиса и фильма Роберта Франка „Чистая правда / Один час“ (C’est vrai / One Hour, 1990) было что-то общее, за исключением того, что оба они — неподдающиеся расшифровке шедевры. Тем не менее по отношению к неподдающемуся расшифровке шедевру Роберта Франка действует всё тот же парадокс: чем ближе к нему подбираешься, тем загадочнее он кажется.
***
Позднее я обнаружил кое-что, наиболее близкое к тому, что можно считать отмычкой к неизъяснимому шедевру Франка. Ей оказалась тоненькая книжка под названием „Один час“ (One Hour), выпущенная сначала издательством Hanuman Books в 1992 году, затем (в чуть более крупном формате) — издательством Steidl в 2007 году. Большей частью эта книга содержит в себе расшифровку звучащих в фильме Франка диалогов (тех, что возможно расслышать), на это отведено 74 страницы, а ещё на двух страницах расположен список всех, кто работал над фильмом: фамилии полдюжины членов съемочной группы и 27 актеров. Там же можно найти уведомление о том, что у этого документального фильма имелся сценарий (написанный Франком совместно с его ассистентом Майклом Ровнером), что „подслушанный“ разговор двух женщин в закусочной был специально написан для них Микой Моузесом, и что все реплики поэта-битника Питера Орловски (подхваченного Франком в середине фильма прямо у входа в кинотеатр Angelika на Хьюстон-стрит), — который постепенно отвоёвывает у Кевина О’Коннора роль местного Вергилия, — это „чистая импровизация“».
***
Criterion выпустил текст о «Цветении» (Fan hua, 2023-2024) Вонга Кар-Вая, сериале из 30 эпизодов, который почти два года назад стал событием для китайского ТВ, и только теперь добирается до западной публики. Джон Пауэрс, словно канатоходец, пытается удержать баланс между критикой и рекламным анонсом («Цветение» выходит на собственном стриминге Criterion). Кар-вай уже привычным образом задействует пресс ностальгического чувства: под цветением понимается сладкая пора 1990-х, «эпоха оптимизма и неиссякаемой энергии».
«Хотя ВКВ начинал как телевизионный сценарист, когда он впервые сказал мне, что собирается делать этот сериал, у меня возникли сомнения. Телевидение требует работать в жестком графике — антипод его печально неторопливого, разведывательного метода поисков истории; кроме того, он избегает обычной для этого медиума разговорности. (Однажды он сказал мне: „Диалоги — это телевидение“, и это не звучало как комплимент.) Я боялся, что его атмосферный, глубоко кинематографичный стиль споткнется о малый экран.

Вместо этого „Цветение“ добавляет великолепную новую главу к его долгой карьере. Вонг не просто снял пилот. Он поставил все или большую часть каждого из 30 эпизодов, и его присутствие чувствуешь в каждом мгновении: никто другой не смог бы сделать это. Разумеется, „Цветение“ восхитительно визуально — это один из самых красивых телевизионных сериалов, какие вы когда-либо видели. Но он еще и возвращается к большим темам его фильмов — романтической тоске, городскому одиночеству, центральной роли еды („Пылающая королевская змея! Небесный журавль! Жареный рис богача!“) в повседневной жизни и, конечно, неуловимости времени».
***
На Sygma Павел Лобычев продолжает высекать политическое из аниме One Piece — и утверждает, что время играет на пользу сериалу.
«В 2022 я написал для The Village эссе, где в числе прочего рассуждаю: „сложно отделаться от ощущения, что эта манга не больше, чем эскапистский аттракцион утешения, приобщенность к которому компенсирует угасающие гарантии реального мира, где классовый разрыв и неравенство только увеличиваются <...> В этом свете One Piece становится подобен японским „начальникам для битья“ — манекенам, которые сами японские фирмы отдают на кулачный откуп работникам, прекрасно понимая, что лучше пусть клерки выплескивают свою агрессию на образ директора в контролируемых условиях, чем митингуют или вступают в профсоюзное движение“. И в конце скромно выдвигаю почти наивный и абсурдный вопрос: „Какова природа One Piece? Это просто аттракцион или он действительно может разжечь сердца, воображение и жажду перемен — вопрос сложный“.
От утвердительной интонации меня удерживало ощущение, что еще просто слишком рано и не слишком социально обосновано. Но несмотря на эксплицитные сомнения в эссе, тем не менее, находились люди, которые считали, что даже банально предположение о политическом потенциале One Piece — идиотизм. Некоторые просто смотрели на меня как на умалишенного фаната (что верно, и я горжусь), который хочет видеть в любимом болеутоляющем полноценное лекарство от реальных бед.
***
Ставка оказалась верной. В скором времени история показала, что небесный остров существует, мечтатели оказались правы. Всё изменилось. Говоря словами персонажей One Piece, „мир перевернулся с ног на голову“ — о политическом заряде One Piece говорят все ведущие новостные каналы мира. Хорошо смеется тот, кто смеется и первым, и последним».
***
Журнал Metrograph публикует материалы своего самого первого выпуска. Один из них посвящен позабытой традиции киномагии, утвержденной, очевидно, Жоржем Мельесом, — речь о сценическом иллюзионизме, адаптированном под фильмические нужды. В конце прошлого века ее наиболее видными продолжателями были специалисты компании Deceptive Practices, основанной иллюзионистами Рики Джеем и Майклом Вебером. Рики Джей проделал немало работы для съемочных площадок, засветился в фильмах Дэвида Мэмета и Кристофера Нолана, учил Хью Джекмана и Кристиана Бэйла показывать фокусы, а также называл карточную колоду «мои 52 ассистента». Когда Джей умер, его место в компании занял Дерек Делгаудио. С ним и с Майклом Вебером для журнала пообщался актер, комик Стив Мартин, начинавший свою исполнительскую карьеру как фокусник для Disney.
«Стив Мартин: Я знал Рики Джея. Вообще-то мое первое свидание с женой прошло на его шоу „Рики Джей и его 52 ассистента“. Но то, что вы, парни, делаете, и что делал Рики, всегда окутано тайной.

Дерек Делгаудио: „Мастер побегов“ (1982) Калеба Дешанеля был первой крупной работой Рики в кино. В фильме есть сцена, когда молодой Гриффин О’Нил планирует свой побег из дома. Он делает себе сэндвич и готовит морковные палочки и, после раздумий, собирает морковные очистки и бросает их в стакан воды, где они превращаются в живую золотую рыбку. Это магия: ни склеек, ни компьютерных спецэффектов. Сцена эффективно передает нам ощущение его независимости, и вместе с этим — его сверхъестественной ловкости рук. В оригинальном сценарии этого не было: сцену придумал и разработал Рики».
Что посмотреть?
Blueprint представил короткий метр «Вода из света» (2024) Павла Королько, выпускника мастерской Сергея Соловьева.
«По фильму распределились мои главные кинолитературные кумиры. От Чехова здесь мотив бессмысленности жизни, вопрос „зачем это все?“, потерянная шляпа как символ утраченной внутренней опоры и усталый, прибитый жизнью герой, который плывет по течению. Есть даже переработанный чеховский монолог. От Бунина — структура сюжета „Солнечного удара“, которая предполагает два ключевых события: внезапное, почти мимолетное знакомство на корабле и такое же внезапное, необъяснимое прощание на причале. От Паустовского название и явление природы — вода в море в кульминационный момент внезапно начинает мистически светиться. От Соловьева — сама Ялта, ее особая, слегка сонная, слегка курортная, но всегда кинематографичная атмосфера».
***
Короткий метр «Быть Джоном Смитом» (Being John Smith, 2024) Джона Смита — едкое самоисследование режиссера, вынужденного жить с самым неприметным и распространенным именем в Англии. С этого на Le Cinéma Club открывается цикл фильмов-автопортретов, куда обещают добавить Бертрана Бонелло и Джоэнну Арноу. Смит — фигура из поля авангардного кино, автор структурных фильмов, в том числе знаковой работы «Девушка жует жвачку» (The Girl Chewing Gum, 1976).